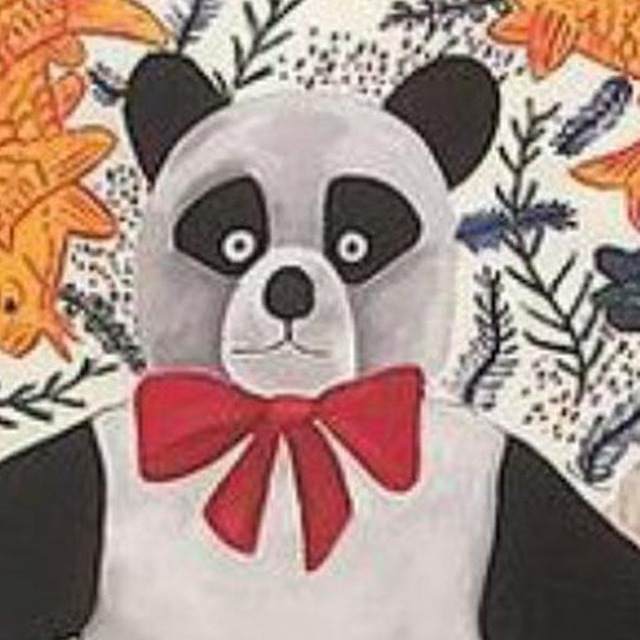Проституция — это преступление или просто нормальная работа, и секс-индустрия должна быть декриминализирована? New York Magazine приводит аргументы обеих сторон (причем выясняется, что Amnesty International за декриминализацию, а всякие правозащитные организации во главе Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип — против), но главное — говорит по душам с современными проститутками, которые не стоят на дорогах и не бахаются героином, а промоутируют себя через тумблер и зарабатывают таким образом, например, на высшее образование. И почти все они тоже за декриминализацию — хотя бы потому, что сейчас у них по сути нет никаких прав: когда и если происходит что-то плохое, полиция не относится всерьез к жалобам секс-работниц.
Разумеется, там масса спорных и сложных моментов: на кого-то нападали, кто-то вообще был в детстве жертвой чудовищного абьюза, а потом решил продавать секс за деньги (кажется, что психологически очень стремная ситуация, но кто мы, чтобы судить?); есть и девушки, которые утверждают, что продавать секс для них оказалось очень empowering занятием, — но их более взрослые коллеги говорят, что есть долгосрочные эффекты профессии, которые неизбежно сказываются на психике, эмоциях и способности найти более конвенциональную работу.
Интересны еще вот какие аспекты. Во-первых, если посмотреть в целом на условно «либеральные» медиа, очевидно, что происходит некоторая виктимизация традиционных рабочих профессий (условно, шахтеры или там нефтяники появляются в таких статьях в основном когда они становятся жертвой чудовищных злоупотреблений со стороны работодателей) — и девиктимизация секс-труда, будь то порно или проституция; я-то только за, но консервативная реакция на такую повестку тоже понятна.
Во-вторых, интересно про репрезентативность мнений: в статье упоминаются секс-работницы, которые лишены собственного голоса и которые как раз, скорее всего, пострадают от декриминализации — но получается, что все стороны, включая читателей, в любом случае вынуждены сами наделять этих людей тем голосом, который, на наш взгляд, им больше подходит; и непонятно, чего больше в желании обратить внимание на проблемы тех, кто не может говорить за себя, — сострадания или эгоистической правоты.
Ну и в-третьих, интересно про язык: слово «проститутка» по-русски звучит уж точно оскорбительно (даже более оскорбительно, чем английское prostitute, мне кажется); «секс-работница» — это что-то очень неестественное; как часто бывает в таких случаях, не очень даже понятно, какими словами говорить про такие проблемы в России.
http://nymag.com/thecut/2016/03/sex-workers-legalization-c-v-r.html#